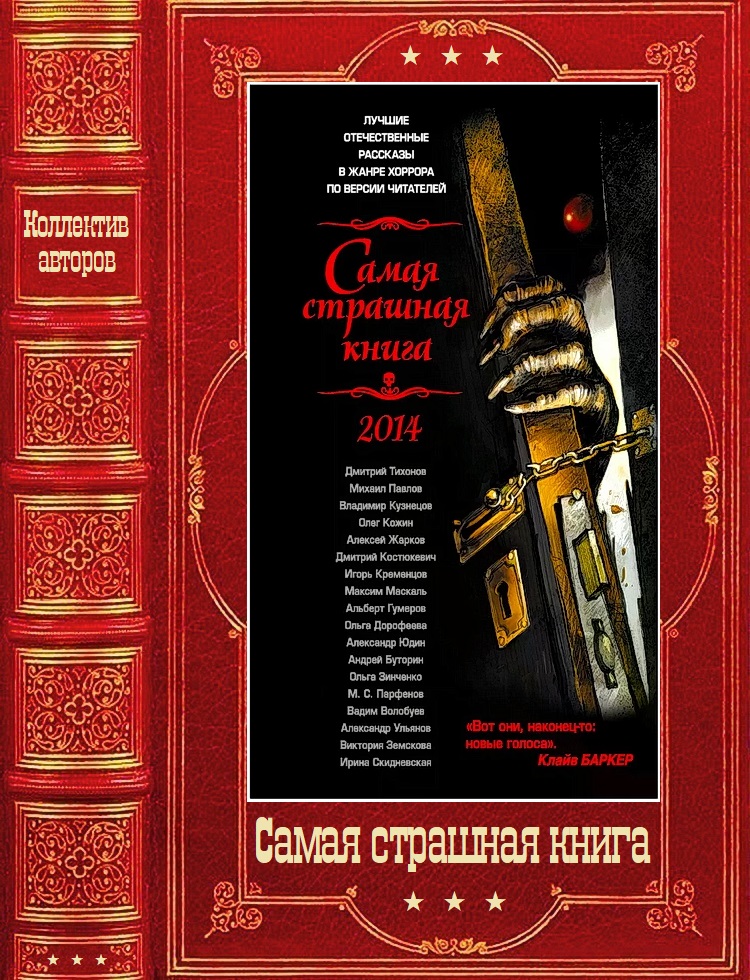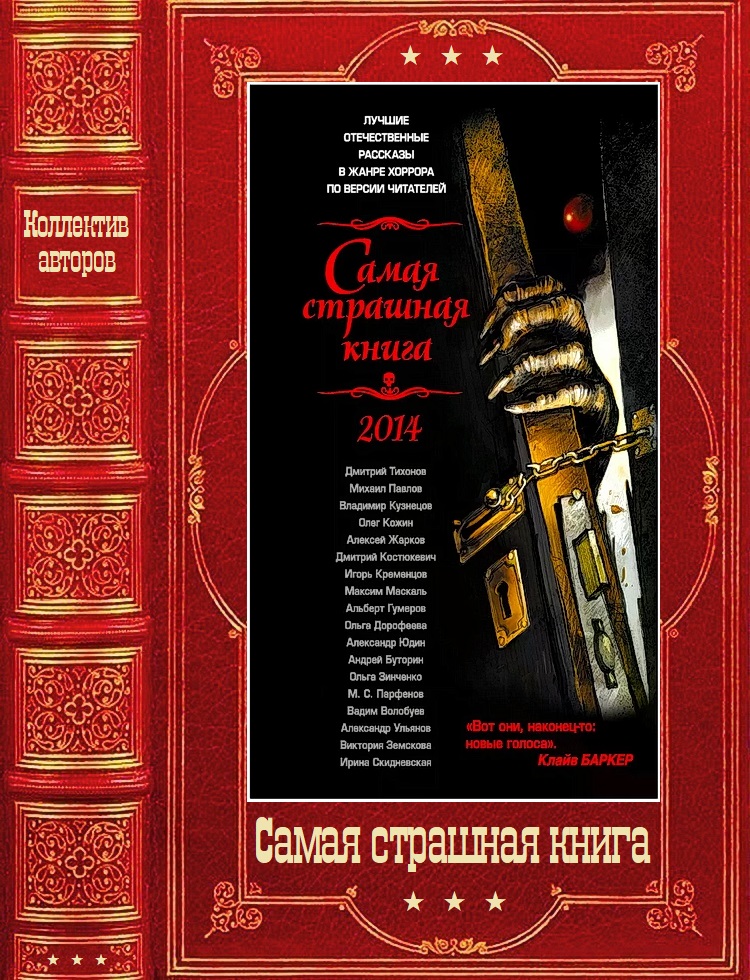Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер Страница 12
Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер читать онлайн бесплатно
Все это было весьма символично для происходящего в стране. Координаты старой системы образовали в сознании людей параллельную вселенную. В течение долгого времени эта система для многих служила маяком и бесспорным ориентиром. Сам я, не будучи ее частью, доступа к этой вселенной практически не имел. Для меня она оставалась неуловима, неосязаема, как память о ком-то, кого ты никогда не знал, кто умер еще до твоего рождения, но на кого постоянно ссылаются в разных историях, шутках, анекдотах и моральных дилеммах. Советское общество в последние десятилетия своего существования представляло собой, по существу, очень устойчивую вселенную, в которой алгоритмы принятия решений в повседневной жизни основывались лишь на нескольких, но очень твердых переменных. Плановая экономика и жесткая политическая централизация оставляли свободное пространство лишь для скромных и незатейливых вариаций. Это относилось к ассортименту потребительских товаров, производимых согласно неизменной номенклатуре, будь то колбаса, сыр или мыло, презервативы или автомобили, но также и к инфраструктуре, учреждениям, услугам и социальным программам. Все это задумывалось, устраивалось или проектировалось заданным образом, на все устанавливались фиксированные цены, и в таком виде они могли остаться неизменными на протяжении многих лет.
В удушливой атмосфере нормированной жизни люди, безусловно, чувствовали себя ограниченными. Однако та же предсказуемость жизни служила залогом и некоторого покоя, уверенности в завтрашнем дне. Товары и услуги имели твердую, предсказуемую цену, а в остальном жизнь представляла собой серию базовых уравнений, решив которые, человек обеспечивал себя получением жилья, профессиональной подготовки, работы, медобслуживания, образования для своих детей. Не то чтобы эти уравнения были легкими с учетом существенных ограничений и негибких правил их решения, однако для их решения существовали определенные стратегии, которыми делились, которые лелеяли, передавали из поколения в поколение. Эти стратегии были всеобщим достоянием, никто не нуждался в пространных объяснениях – все понималось с полуслова.
Так, например, все знали, что заключение брака увеличивало шансы на получение жилья. И не только потому, что молодые семьи имели на него первоочередное право, но и потому, что в результате переезда молодой жены в родительский дом мужа или наоборот, семья в целом переставала соответствовать нормативам жилой площади на человека. Другие возможности улучшить жилищные условия можно было пересчитать по пальцам. Например, вступить в жилищный кооператив, пусть и с учетом некоторых условий, или устроиться на работу в учреждение или на предприятие, располагавшее жилищными квотами. Всем было доподлинно известно, на какие предприятия или отрасли квоты распространялись, какие должности считались перспективными или бесперспективными в этом отношении. На этих знаниях строились жизненные стратегии.
Заработная плата и правила начисления премий были строго стандартизированы, что также способствовало предсказуемости и предохраняло от сюрпризов. Если ты владел иностранным языком, ты мог рассчитывать, например, на надбавку. Надбавка также выплачивалась при наличии ученой степени, за многодетность или за инвалидность.
По идеологическим мотивам рабочие в Советском Союзе зарабатывали больше тех, кто работал головой, но последние часто имели лучшие виды на жилье, получали дачи, путевки в санатории и целый ряд других вожделенных товаров и услуг, которые человек не мог просто так купить, но должен был «заслужить». Вся жизнь состояла из таких правил, но что в этом вопросе делало Советский Союз уникальным, так это то, что правила были практически неизменными и их нельзя было «подогнуть» с помощью личной изобретательности. Старшие поколения были буквально пропитаны этими правилами и прилично поднаторели в их использовании.
Эти знания смогли прекрасно пережить Советский Союз. Спустя годы после того, как сама страна почила в бозе, люди все еще могли непосредственно апеллировать к системе координат этой исчезнувшей цивилизации, ставшей частью их самих. Чем лучше я говорил по-русски, чем больше разбирался в российском быте, тем чаще во мне видели носителя тех же знаний. Так, люди в разговоре без всяких сомнений называли цену в советских рублях, даже не предполагая, что для меня эта цена ровным счетом ничего не значит и не помогает мне понять, дорого это или дешево. Цены в СССР оставались практически неизменными, они отложились глубоко в памяти людей. Килограмм сыра стоил столько-то рублей и столько-то копеек, бутылка водки столько-то, но коньяк, напиток более высокого класса, как раз столько-то. И если кто-то через десять лет – после лихорадки цен и их обнуления инфляцией – путался в своих воспоминаниях и заявлял, например, что «вареную колбасу он покупал аж за три сорок пять!», он подвергался осмеянию. Потому что «все в Советском Союзе знали, что вареная колбаса стоила два двадцать!». После чего обычно следовали рассказы, как кто-то в условиях жестокого дефицита, или нехватки денег, или в ситуации страшной срочности все же славно сумел достать и вареную колбасу, и бутылку водки, и билет в кино, и все это рассказывалось с указанием точных цен «того времени».
Эти истории сопровождались воспоминаниями о запахах, вкусах, ощущениях канувшей в лету цивилизации – дорогих сердцу, вне зависимости от того, симпатизировал ли человек советской системе. Просто потому, что они были частью его личного прошлого: юности, детства, студенческих лет, прежних любовных увлечений или семейного счастья. Для меня, как историка, исследователя советской эпохи, эти «малые истории» представляли особую ценность: они прятались за фасадом «большой истории» Советского Союза, как она преподносится в книгах. Зачастую эти истории, казалось, противоречили тому, что я знал об этом обществе, или думал, что знал, и вызывали порой чувство недоумения. Но они были настоящими, неподдельными, и именно этого ощущения подлинности мне часто не хватало в абстрактных научных схемах. Именно это чувство, казалось, тонуло в море научных слов. В то же время я осознавал, что многие из этих схем были достаточно убедительными.
Как можно примирить эти две версии истории – вот что меня очень занимало в годы, проведенные в России. Я постоянно искал мосты, связь между ними, и в конце концов сделал об этом выставку «Вместе и врозь», демонстрировавшуюся в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке[11]. Эта выставка пыталась показать, как «малая история» личной памяти отражается в «большой истории» советской эпохи и наоборот. Собирая материал для выставки, я записал семейные истории по рассказам тринадцати человек и по их фотоальбомам. Я отобрал людей из своего окружения, которые должны были соответствовать двум условиям: не только быть хорошими рассказчиками, но и иметь семейные
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.