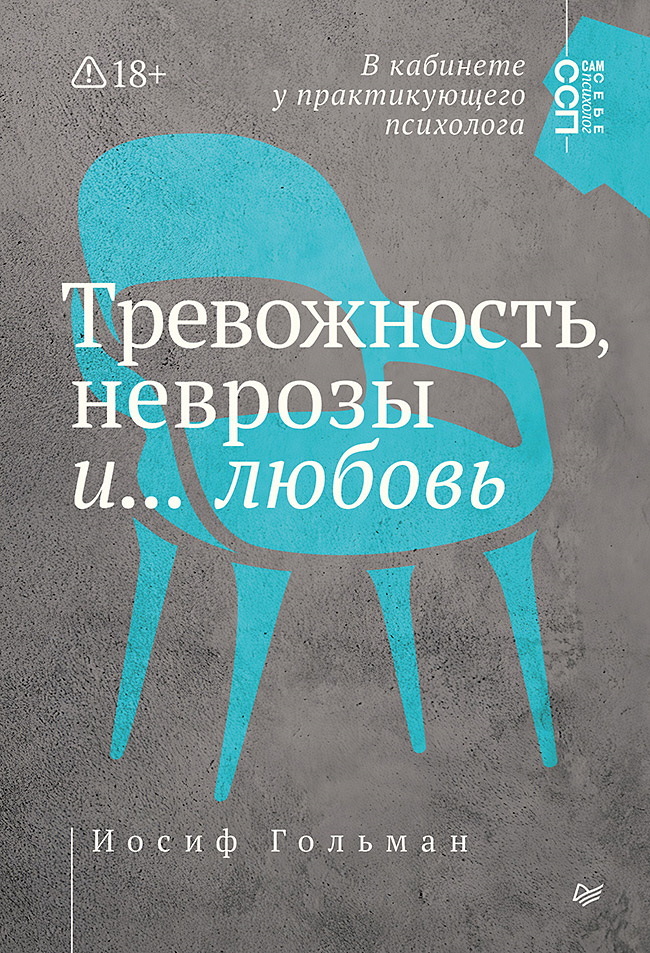Страхи, неврозы и радости подростков - Иосиф А. Гольман Страница 19
Страхи, неврозы и радости подростков - Иосиф А. Гольман читать онлайн бесплатно
Он вообще играет множество ролей в нашем теле, и все – жизненно важные. Например, активирует клетки гладких мышц, суживая сосуды и помогая «штопать» дырку при нарушении их целостности.
Кстати, в нашем теле на периферии серотонина производится несравнимо больше, чем в мозге, где он исполняет не менее важную роль нейромедиатора (или нейротрансмиттера, как кому больше нравится).
Напомним, что нейромедиаторами называют такие молекулы, которые, попадая в крошечную щель (синапс) между нейронами, передают (либо тормозят) сигнал от одного нейрона к другому.
Хотя и «телесные» функции серотонина весьма многогранны и заметны.
Скажем, происхождение мигрени сейчас связывают именно с серотонином. Когда по какой-то причине его одновременно выделяется слишком много, разом расходуются все «запасы», а сосуды, как мы помним, от этого сильно суживаются. В том числе и в головном мозге.
Ну а после инактивирования молекул (как они выводятся из оборота – расскажем ниже), соответственно, возвращаются в исходное положение. И даже более того – заметно расширяются, поскольку запасы гормона-серотонина оказались на некоторое время израсходованными. От этого начинаются застойные явления, кровоток нарушается, а мозг, между прочим, потребляет до 20–25% энергии всего тела! В результате то, что другой орган лишь насторожит, для мозга оказывается критичным. Страдающие мигренью не дадут соврать, простите за черный юмор, – я тоже слишком хорошо знаю, что такое мигрень.
Лечат же ее сегодня обычно триптанами – то есть молекулами-агонистами серотонина. Получается своего рода заместительная терапия.
А как насчет радостей?
Ну ладно, с серотонином-гормоном худо-бедно разобрались. Но про радости-то хоть – правда?
Отчасти – правда.
Хотя точнее было бы назвать серотонин не «молекулой счастья», а молекулой, «фильтрующей» грусть и печаль. И вообще все неприятные (не только эмоциональные) ощущения, включая даже физическую боль. Потому что этот нейромедиатор в основном выполняет «тормозную» функцию.
В основном, поскольку в данном случае опять, как и все в мозге, – неоднозначно. Выше уже упоминалось, что рецепторы серотонина 5-НТ1, как правило, «тормозные», а 5-НТ2, как правило, активирующие.
Хотя на самом деле все еще хуже для четкого понимания, потому что типов серотониновых рецепторов аж семь штук. И у каждого из них есть подтипы. И обитают они не только на постсинапсах, но и на пресинапсах, тем самым ограничивая от бездумного расходования… самих себя. Диву даешься, насколько сложный, многоуровневый, многократно дублированный механизм управляет нашим телом. Оттого и надежность у него удивительная.
Всё, приняли: серотонин – не гормон счастья, а «фильтр печалей».
Вот нейромедиатор дофамин условно можно назвать молекулой счастья. Потому что он активизирует (помимо всего прочего) передачу сигналов в те области мозга, которые отвечают за хорошее настроение. Серотонин же, упрощая, можно назвать нейромедиатором, который затрудняет передачу сигналов в области мозга, отвечающие за переживание человеком неприятных чувств. В том числе, как уже отмечено, – и болевых ощущений. То есть он, в некотором смысле, способствует анальгезии. Именно поэтому одни люди базово, генетически, ощущают боль сильнее, а другие – слабее.
Если принять данную модель, то можно согласиться с тем, что серотонин все-таки имеет отношение к счастью. Ведь субъективное психологическое благополучие (оцениваемый нами самими аналог нашего счастья) – это своего рода алгебраическая сумма радостей и печалей.
Серотонин «фильтрует» печали? Значит, сумма меняется в сторону радости.
Четыре лица серотонина
Мы ведь не боимся трудностей?
Тогда начнем.
Основных функций у данной молекулы в мозге четыре. Хотя нейронов серотонинэргической системы очень немного, ну, может, 1% от всех или около того. Для сравнения – нейронов, где в качестве нейромедиатора выступает гамма-аминомасляная кислота (GABA или, по-русски, ГАМК) – порядка 40% от общего числа.
Примерно столько же – глутаминовых (GLU) нейронов. Вот их изучать – одно удовольствие: во-первых, их много; во-вторых, GLU-нейроны – всегда активирующие; GABA – всегда «тормозные».
С серотонином же – полная путаница. То тормозит, то активирует. Нейронов мало, сидят себе в так называемых ядрах шва, крошечных образованиях в продолговатом мозге, а влияют на всё. ВООБЩЕ НА ВСË! Причем разнонаправленно.
Итак, перечислим четыре основных функции серотонинэргической системы.
1. Регулирование режима «сон/бодрствование». Приходит время, тормозим всю «бодрящую» информацию, активируем ГАМК-систему и… спим.
2. Регулирование фоновой болевой чувствительности. «Слабая» серотониновая система – больно даже кровь из пальчика взять. Хотя некоторые вполне могут терпеть боль даже от серьезных повреждений. Лично мне было приятно узнать, что я в процедурном кабинете не трусливый мужчина, а просто имею слабую серотонинэргическую систему.
3. Регулирование активности центров отрицательных эмоций. Точнее – сдерживание, «подтормаживание» их активности. Если этого не происходит или происходит недостаточно, мы говорим об эндогенной тревожности и/или депрессии.
4. Блокирование слабых (не основных) информационных сигналов в коре больших полушарий головного мозга. Эта тема требует отдельной главы (или сотни глав, когда ученые все поймут до конца), потому что не бывает только хороших или только плохих свойств нейромедиаторов. Если информационный шум не глушить вовсе, то мы не сможем ни одну мысль додумать до конца. В то же время, если «растекания» сигналов не будет вовсе, то мы не сможем осваивать новые знания и получать новые идеи, так как не будут образовываться новые неожиданные нейронные цепочки. Как-то сразу возникает приятная мысль, что творческие способности – обратная сторона серотониновой «недостаточности».
Вернемся к нашим баранам: тревожности, депрессии и неврозам
Можно бесконечно читать и обсуждать тему серотонина, потому что она безгранична и каждый год ученые добавляют все новую и новую информацию, порой крайне неожиданную. Однако есть смысл вернуться к тому, что беспокоит миллионы людей (точнее – сотни миллионов).
Тревожные и депрессивные расстройства с «примкнувшими к ним» неврозами. Это все о нем, о серотонине. Ну и о дофамине с норадреналином, и ГАМК с глутаматом, конечно. Но мы уж точно не поместим все в одну заметку.
Мы уже сказали, что с 1969 г., благодаря нашему замечательному соотечественнику И. П. Лапину[1], гипотеза о связи депрессии с дефицитом моноаминов (прежде всего серотонина) стала основной. Да, конечно, она потихоньку видоизменяется: под пристальное внимание попадали ее модификации – рецепторная, генетическая. Исследовалась роль мозгового нейротрофического фактора, субстанции Р, эндокринные гипотезы, гипотезы с динорфинами и глутаматом. И все же серотонин остался, как говорят, «при делах». Прежде всего именно потому, что лекарства, увеличивающие его содержание в синаптической щели (там, где он и должен «работать») доказательно облегчают состояние большинства страдающих и при тревоге, и при депрессии.
Как работают антидепрессанты
В основном – двумя путями, влияющими на механизм уменьшения концентрации серотонина в его «рабочей зоне» – синаптической щели.
Рассмотрим их подробнее.
Серотониновый нейрон функционирует нормально – все хорошо, и мы грустим только тогда, когда
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.